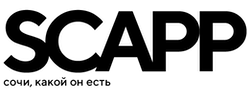По традиции в начале лета мы возобновляем литературную рубрику «Чтение на пляже». В этом номере публикуем пронзительный рассказ сочинского автора Ольги Одишаровой.
«Плыви, барабулька!» — это история о любви, надежде и бесконечной детской вере в чудеса. Приятного чтения!
Плыви, барабулька!
Каждое лето мать привозила Стёпку в Сочи на побывку — так она шуточно называла летние каникулы, которые он уже третий год подряд проводил у тёти Иры. Стёпка в школу не ходил. Будучи всего шести лет от роду, он был добрым и ласковым, тихим для своего возраста ребёнком — даже оставаясь в саду на полный пансион, с ночёвкой, он грустно улыбался большими карими глазами спешащей на работу матери — дескать, иди, всё понимаю, — и оставался играть подальше от шумных детей с любимым пластмассовым самосвалом. С ним Стёпка не расставался ни на минуту. Даже когда шёл спать, укладывал его рядом, бережно заворачивая в шерстяное клетчатое покрывало.
Каждая проведённая в саду ночь для Стёпки заканчивалась одинаково. Он сам ложился в постель и начинал тихо скулить под одеялом, пока воспитательница не присаживалась на край кровати, поглаживая тёплой рукой его насупленный лоб и почти бесцветные брови, отчего Стёпка мгновенно затихал и уже через четверть часа мирно сопел в белоснежную перьевую подушку.
Мать брала на работе по 3–4 смены — её стажа на Ленинградском литопонном заводе не хватало, чтобы выйти на нормальный оплачиваемый больничный, даже по уходу за ребёнком. Часто зарплату платили полимерстройматериалами — то рулон линолеума пригонят к подъезду, то стройную «вязанку» плинтусов оставят у двери. В ответ она только усмехалась и говорила: «Да на что мне, даже гроба-то не сколотишь…», но принимала, в надежде продать или обменять у бабы Нюры — соседки по лестничной клетке — на муку или молочку, той такое нужно – она уже как два года делала у себя на даче «модные ремонты».
+++
Никто не знал, при каких обстоятельствах мать осталась одна и что в её жизни случилось на самом деле, но её сияющая кожа и блестящие глаза как-то сразу угасли с первыми прибавленными килограммами и округлившимся животом. Полуторка в утеплённой хрущёвке досталась ей ещё от деда — он отписал на неё комнату, когда та поступила в институт и спокойно отдал Богу душу, однажды решив не просыпаться. Мать отвела сороковины, а после ещё год сюда не въезжала. Но в ту особо снежную зиму вдруг появилась на пороге у соседки.
— Баб Нюр. Ключи дай.
— Ой, ты штоли? В такой-то час? Случилось чего? — уже себе под нос бормотала баба Нюра, шлёпая до тумбочки и обратно. — Держи. Неужто навсегда? Институт штоль уже кончила?
Мать Нюру не слушала — молча зашла в квартиру и повернула ключ два раза. Ещё раз дёрнула ручку и успокоилась. В спальне расстегнула лифчик, пересчитала деньги, достала из кармана блокнот и огрызок карандаша. Десять рублей вернуть сестре, ещё пять — остаток за шубу и валенки, вот двадцать — на приданое — всякие там чепчики и пелёнки. Ещё три червонца бережно завернула в бумажный конверт и нацарапала: «В Лефортовскую. Лёше». Больше денег не осталось.
+++
Этим летом мать привезла Стёпку в Сочи надолго — с мая по август вместо отпуска она вызвалась на урожайные работы. Сначала — под Волгоград, на овощеводческие хозяйства, там весной проходит сбор редиса и ранней капусты, затем — поездом в Астрахань, собирать бахчевые — дыни там да арбузы.
— Ничего, — говорила она сестре, — ничего. Подумаешь, ближе к земле буду. Я урожаем не приму, мне только деньгами обещали. Вернусь, да и пристроим Стёпку учиться, к нормальным специалистам, не всяким там.
Слова «олигофренопедагог» и «логопед-дефектолог» для неё звучали как иностранные — единственное, что она поняла на встрече со штатным врачом детского сада — сына надо пристроить в коррекционный класс, там он сможет «исследовать мир» и в будущем даже получить профессию.
— Стёпка нормальный! — возражала она то ли по привычке, то ли с досады на окружающих, но пристроить его в школу для особенных детей всё же согласилась. Оставалось только скопить денег — на дорогу, да «на карман» — а где вы видели, чтобы всё с неба падало? А кормить его там как будут? Он же не ест ни суп, ни кашу — чтобы хоть как-то заставить его обедать, она вырезала ему звёздочки из долек немолодой картошки, обмазывала с двух сторон чесноком и жарила на семечковом масле, с крупной морской солью. Стёпка ликовал.
От мысли, что он будет от неё где-то далеко и недоедать, у неё сдавило внутри, где-то в районе солнечного сплетения. На что ж она тогда мать, если допустит такое? Не подмажешь — не поедешь, в этом она за свои лета не раз убеждалась. Стёпку во что бы то ни стало надо было поместить в привычные для него условия — от стресса он мог долго плакать, пока на лбу не начинали синеть вены и поднималось внутричерепное давление. Успокоить его могли разве что самосвал и мамины руки, которыми она поглаживала его лобик и брови.
Каждый раз, когда с ним случалась какая-нибудь история, она корила себя пуще прежнего – недоглядела и проворонила. В прошлый раз оставляя сына в саду, она уходила с тревогой. Без пяти семь сдала, наконец, смену, но на вторую вахту не зашла — а сразу на трамвай за Стёпкой. Пусть сегодня побудет дома.
Она привыкла, что когда приходила в сад, Стёпка к ней не выбегал, а встречал её в том же углу, где она его оставляла, под «Хозяйкой медной горы» Шишкина. Мальчик часами сидел перед ней, вытянув тонкую шею и ковыряя ногтем скамейку. Мать не понимала, что он в ней нашёл — круглолицей, как её бусы, девице на картине.
— Тётя хорошо пахнет, — сказал ей Стёпка, будто угадав, о чём она думает.
Сегодня под Шишкиным Стёпки не было, моложавая и курносая Вера Аркадьевна вывела его с виноватым видом. Стёпка стоял сзади, прижимая к левой руке носовой платок.
Дома оба внимательно осмотрели рану — на запястье кровил ровный багровый укус.
— Стёпа, зачем?
— Часики, — вздохнул Стёпка то ли от боли, то ли от разочарования.
Удивительно, что он так и не проронил ни слезинки. Мать вздохнула, залила рану водой и зелёнкой, забинтовать он её так и не дал: «Не трогай! Это часики!» Следы от мелких крепких зубов и впрямь напоминали деления на круглом часовом циферблате.
В Ленинграде Стёпка почти не улыбался. Мать была уверена, что дело в этом тяжёлом свисающем небе и чёрной жиже каналов — откуда взяться силам в этой унылой серости.
— С двух сторон давит, скоро схлопнется и придавит, — сказала однажды она соседке и тут же вздрогнула от внезапного и истошного вопля Стёпки. Успокоили еле-еле, убедив, что мама пошутила: ничего не захлопнется, и они проживут ещё очень долго. Стёпка смолк, но по улицам теперь ходил всё же как-то настороженно.

+++
Мать была спокойна за Стёпку, когда он в Сочи.
— Раскрашка! — завизжал он, когда они впервые сюда приехали и перешли дорогу от вокзала в центр. — Раскрашка!
Действительно, город был густо закрашен зелёными красками всех оттенков, солнечные лучи отскакивали от асфальта и били в глаза, придорожная пыль сверкала, словно самоцветы в большой малахитовой шкатулке. Стёпка жмурился и улыбался – его приветствовала и подавала лапу волосатая веерная пальма.
— Там улитка живёт! — исследовал он ствол, старательно запихивая под кору кусок недоеденной булки. — Тут дядя кислый, не хочу тут, — сказал он, отходя от скамейки, на которой мать предлагала перевести дух. Потный лысый мужик покосился на покрасневших женщин и, пыхтя, пересел.
На этот раз Стёпка приехал к тёте Ире со своим любимым самосвалом.
— Не отпустишь? А как в море с ним плавать будем? — спрашивала та, но худой белобрысый очкарик только сильнее прижимал самосвал к животу. — Ну как знаешь, не отнимаю. Давай рыбу жарить? У меня есть барабулька. Пойдём?
Стёпка кивнул и схватился свободной рукой за холщовые штаны тёти Иры. На летней кухне она была как шестирукий шаман, хватая одновременно муку, соль, мусорный пакет, зажигая газ и наливая в семейную чугунную сковороду масло.
Тётя Ира, как волшебной палочкой, ловко вспарывала брюшко и скоблила зубчатым ножом бок барабульки — кухонный фартук покрылся рыбьим серебром, сковородка начала угрожающе шипеть, принимая в свои объятия свежий улов. Ещё минута — и по кухне проплыл въедливый запах жареного. Тётя Ира тут же убавила огонь — рыба в её понимании должна быть только конфи. Если её томить при 50 градусах, то барабуля станет эластичной, упругой, но при этом достаточно мягкой, чтобы мгновенно растаять во рту.
Стёпка смотрел, как рыбки оловянными солдатиками укладывались в сковородку и тут же, теснясь и потрескивая, меняли окрас с серебряного на золотой. Золотые рыбки, красивые!
Тётя Ира продолжала колдовать. Он наблюдал за ней не отрываясь, представляя её жёлтым самосвалом, с шестью длиннющими клешнями-манипуляторами за спиной, которые лихо жонглировали перед ним кухонной утварью. Стёпка закатился.
— Чего хихикешь? Весело тебе? — обращалась она к племяшу, обмазывая ему нос мукой. — А теперь весело? Получи! — надурачившись, оба шли умываться. Тётя Ира Стёпку любила. Только периодически, прилизывая ему торчащие во все стороны белые волосы смоченной под краном рукой, изредка всхлипывала носом и отворачивалась. А потом, будто вспомнив, что у неё что-то горит на плите, семенила на кухню доставать пирог из черемши и заполнять собой и домашними хлопотами всё пространство – таким ей представлялся тёплый семейный уют.
Этим утром Стёпка вышел к столу без самосвала. Тётя Ира и без того заметила, что он уже неделю выходит из комнаты насупившись, а за столом хмурится, быстро-быстро бегая туда-сюда зрачками под прикрытыми, дрожащими веками.
— Стёп, что? Болит где? — спрашивала она, укладывая ему в тарелку штабелечками маленьких золотых барабулек. — Не будешь? Ну пошли тогда на море? Хочешь?
От дома тёти Иры до пляжа было рукой подать — минут 15 по узкой, пахнущей жасмином и маковыми булками узкой улочке. По спуску можно было дойти быстрее, но Стёпка плёлся позади, поглощённый своими мыслями. О чём он думает? О чём вообще думают мальчики его возраста? Тётя Ира вздохнула, уверенная, что такие дети — блаженные. Они всяко счастливы и наверняка дружат с ангелами, иначе чем ещё объяснить их такую задумчивость?
На море Стёпка сразу же скинул сандалии и побежал к воде.
— Куда ты, ошалелый, камни горячие! Подожди, дай раздену! — но Стёпка её не слушал.
Спотыкаясь и обжигая костлявые ноги, торчащие из-под шортиков, как две нитки, он, перепрыгивая через острые булыжники, добежал до воды и вошёл в неё по колено. Достав из кармана маленькую, с выпученными белыми глазами, барабульку, он опустил её в море. И когда он только успел стащить её со стола?
Рыбка повисла в солёной невесомости и не двигалась, даже обласканная едва плескавшимися волнами. Стёпка смотрел на неё, большими мокрыми глазами-иллюминаторами, такими же стеклянными, как это море, и ждал, что сейчас, вдохнув, наконец, едкого солнечного воздуха, она очнётся. Задержав дыхание, он растерянно подтолкнул её в глубину замасленными пальцами:
— Ты чего, а? Ты чего? Ну же, а. Ну же, ну, плыви, барабулька!