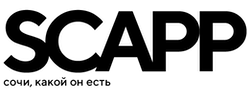Что случится, если архитектор придёт на приём к психологу? Мы решили попробовать — и провели необычное интервью-сессию, в которой архитектор Татеос Бардахчиев, основатель архитектурного бюро «Мастерская открытой архитектуры» и Анна Куликовская, практикующий психолог, обсуждают не только вдохновение, ремесло и воспитание новых архитекторов, но и то, почему каждый проект — это живой организм, как справляться с внутренним конкурентом, и что на самом деле движет человеком, который создаёт города.
— Известный закон гласит: «Куда направлено внимание — туда и течёт энергия». Куда обращено ваше внимание?
— На развитие команды, то есть архитекторов, которые у нас работают. Я вообще убеждён, что развитие человека — это самое главное, потому что невозможно развивать профессию при отсутствии профессионалов. Можно сколько угодно говорить, что в архитектурной среде много проблем, но ведь в центре этого профессионального сообщества — именно человек. Он — сердце этой композиции. Поэтому мне жизненно важно развивать каждого из тех, с кем я работаю. Направленность на человека — это самое важное. Если не потерял человека, а сделал его лучше внутри архитектурного сообщества — всё получается.

— Насколько в своей работе вы привязаны к материальным вещам, которые создаёте?
— Хороший и такой сложный вопрос! Ведь это про воплощение — про то, что есть бумажная архитектура, а есть физические объекты, которые в результате получаются. Приведу пример. Когда-то давно я сформулировал для себя: самое неприятное, что может случиться, — это когда ты спроектировал классное здание и даже построил его, но ошибся в очень маленькой вещи — скажем, не предусмотрел ступеньку где-то внизу на входе. И вот это будет нелепо — внук, например, споткнётся и спросит: «Да какой дебил проектировал это здание?». И всё. Это крах. Вся твоя колоссальная работа над этим зданием не будет стоить ничего, если ты допустил такой крошечный, но досадный промах.
А вообще все объекты, спустя какое-то время, начинают жить самостоятельной жизнью. Ты на них уже не влияешь, это самостоятельные организмы. Прозвучит пафосно, но это как с детьми — рано или поздно они уходят в свой полёт. Поэтому материальная ценность важна, да, но мало сделать красиво — непременно нужно наполнить объект содержанием. Без него это всего лишь камень или стекло. Если проект не наполнен гиперидеей, чем-то, что выше всех этих функциональных потоков, телевизоров, комнат уборочного инвентаря и всего остального — любая материальность бессмысленна. Она недолгая и ни к чему не приводит.
Но есть и обратная сторона этой всей штуки — бумажная архитектура, которая вроде бы не материальна. И вот тут важно понимать: то, что ты ещё не построил — это не бесполезно, это накопление опыта. Чертёж и объект на бумаге иногда бывает сильнее и более материальным, чем всё то, что уже получилось в физическом мире. Это как фотоснимок будущего.
— Убеждения, привычки, установки, правила мешают или помогают творческому процессу? Как они влияют на результат?
— Есть набор действий, правил, который архитектор каждый раз проходит и вырабатывает свой личный шаблон, по которому он действует. Для меня архитектура — это ремесло, прежде всего, а не головокружительный полёт фантазии. Я считаю себя ремесленником, башмачником, который каждый день делает свои башмаки всё лучше и лучше. Разумеется, башмачник понимает, что такое кожа, как она тянется, как её обработали, что с ней вообще можно делать. Вот у меня это камень. Архитектор должен понимать и чувствовать этот материал. Любое ремесло — это творчество не меньшее, чем то, о чём мы привыкли думать.
Я не верю в штуки вроде «К художнику не пришла муза», внутри архитектуры это не работает. Но это вовсе не означает, что творчества нет из-за обилия правил. Нужно преодолевать, пересекать границу правил. В конце концов, правила для этого и существуют, чтобы сквозь них проходить.

— Что или кто лишает вдохновения?
— Пока такого не случалось. Вдохновение живёт внутри, это часть жизни. Чтобы оно исчезло, нужно перестать дышать. Разумеется, случается усталость, но это другое. Бывает так, что ты чего-то очень сильно хотел, стремился на длинных дистанциях, вынашивал идею, вовлекал в неё людей, а потом бац! — и что-то происходит, меняется. Например, экономические условия. И оказалось, что всё, над чем вы думали, вложили огромные ресурсы, знания, душу, оказывается невостребованным. Это просто нужно научиться переживать. Это нормально. Это тоже опыт.
Архитектор вообще мало строит, он очень много работает «в стол», это такая мощная тренировка. Архитектор — это экспериментатор, который проводит эксперименты каждый раз, он не знает конечного результата, он его воображает.
— Насколько обычно отличается первоначальный эскиз или концепция от конечного результата?
— Бывает так, что сильно отличается, к сожалению. Почему к сожалению? — Потому что зачастую система идёт по упрощению той идеи, которая была изначально выработана. И это всегда оптимизация, всегда обрезание нужных вещей.
И всё-таки есть одно «но» — даже на чертежах проект начинает жить своей жизнью. Желаешь ты того или нет, но проект в любом случае сам себя построит. Кстати, бывает и так, что оптимизация приводит к неожиданно хорошим результатам. Но в целом мы отчаянно пытаемся донести основную идею. И если нужно ругаться — ругаемся, ищем компромиссы.
— А вот на все эти изменения больше всего влияет заказчик, обстоятельства, или всё-таки архитектор?
— И заказчик, и обстоятельства, и архитектор. Потому что нет хорошего здания без заказчика. Эталонный объект — это 50% роли архитектора и 50% — заказчика. Важно найти компромисс и помнить, что у противоположной стороны не меньше идей. Не нужно обольщаться, мы не боги. У другой стороны тоже полно и опыта, и идей. Услышать их, переработать и привести в порядок — вот в чём часто случается столкновение интересов.
Иногда архитектор говорит: «Я всё знаю, мне ничего не нужно». Это глупая позиция. Нужно слышать противоположную сторону, тогда будет меньше проблем и результат хороший. В общем, в процессе участвуют все.
Очень часто архитекторы недостаточно профессиональны. Есть проблемы с этим, безусловно. Школа слабая, не буду скрывать.

— Поэтому вы и мечтаете обучить? Это такая благая общая идея?
— Хорошие школы есть. Появилось и много отличных мастерских. Архитектура вообще за последние 10–15 лет большой шаг сделала. Есть действительно суперобъекты, которые строятся в России, проектируются российскими архитекторами, тут грех жаловаться. Но общий уровень, конечно, нужно подтягивать. Мало практики у ребят.
Мы, кстати, с удовольствием берём практикантов, студентов, приходят даже восьмиклассники просто посмотреть, что это такое. Они ходят месяц, два — просто смотрят, как вообще дядьки сидят, работают, что-то там горячо обсуждают. Это классная штука, потому что когда я, например, на архитектора поступал, я вообще не понимал, что это такое. Разобрался только на третьем курсе. А потом был длинный-длинный путь, чтобы вообще понять, что это за профессия.
— А это вообще мечта с детства?
— Это наперекор судьбе. Родители хотели, чтобы я поступал в Ростовский институт железнодорожников. А я вот совсем не мечтал об этом. Поэтому сказал, что буду архитектором, и поступил, не разобравшись.
Признаться, до определённого момента я вообще не очень-то верил в то, что стану архитектором. Не верил даже тогда, когда заканчивал вуз. Но однажды я всё-таки рассмотрел логику. Сидели мы у кого-то дома. Однокурсник чертил какую-то штуку на компьютере, и я увидел логику совершенно ясно, чётко. Я понял, как, тиражируя один элемент, получать сложные фигуры. Вот эта математическая модель увлекла меня именно логикой — я почувствовал эти логичные связи.
— Есть ли в вашей работе «инвентарный список»? Всё, что забирает силы и не даёт энергии?
— У меня такого нет, но я знаю, что некоторые архитекторы, например, говорят, будто в рабочей документации нет творчества, это сплошная рутина. А я уверен, что эти архитекторы просто не совсем разобрались, что такое рабочие чертежи. В них красоты и творчества не меньше, чем в концептуальной архитектуре.
А вообще это сложная профессия, много в ней междисциплинарных тем. Возьмите, например, градостроителя. Они ведь не кубики рисуют, они жизнь придумывают, будущее.

— Как проще работать в проекте и выстраивать отношения: по схеме «архитектор — заказчик» или «человек — человек»?
— Я думаю, правильнее — отношения архитектора и заказчика. Да, очень интересно, когда работает модель «человек — человек», но это должны быть два человека, осознавшие, во что они играют. Это больше будет психологическая игра, чем работа над объектом.
Хотя, смотря, что мы проектируем. Если это гостиница, жильё — это одно. Музей или театр — иное. Жилые объекты — это не монументальная архитектура, она не отражает эпоху. Вернее, отражает, но не пытается её зафиксировать и передать всё многообразие как культовый объект. С жилыми объектами эффективен формат «архитектор — заказчик».
А когда мы говорим о культовых вещах, которые должны транслировать что-то более глубокое, воспитывать следующие поколения, то там без человека уже не обойтись, потому что очень важно личное.
— Как можно охарактеризовать вашу жизнь сейчас? Буквально 5–7 слов, какая она?
— Она сложная, пёстрая, тёплая. Это калейдоскоп, через который я смотрю на солнце.
— Кто или что ваш конкурент?
— Конкурент внутри сидит, он пытает тебя… Это борьба с собой, это никогда не борьба с внешним, только внутри. Все границы, правила, любые ограничения ты выстраиваешь внутри себя. Если ты их можешь победить — идёшь дальше. Не можешь — отступаешь назад.

— Ваши проекты, образно говоря, кричат, тихо шепчут или многозначительно молчат?
— Я всегда был сторонником рядовой и средовой вещи, которая незаметна. У нас в стране столько было наделано кричащих, вопиющих и непонятных вещей, что среда сама по себе развалилась. И нужно теперь её создать, нужно эту ткань соединить. Для этого необходимо делать простые, удобные, незаметные вещи.
И это ни в коем случае не звучит оскорбительно по отношению к архитектору и его проекту. Потому что смысл, идея, качество, архитектура от этого не зависят. Ты всегда должен понимать, что создаёшь что-то, вокруг чего потом что-то будет происходить. Если рядом может появиться такая же вопиющая вещь, то нужно задуматься, а не стоит ли всё-таки сбавить темп и сделать что-то поспокойнее.
Средневековые города строились таким образом. Мы попадаем куда-то в Италию, в Испанию, ходишь по этим улочкам и получаешь удовольствие. Почему так происходит? Потому что каждая улица вела к площади. От площади была следующая скульптурная композиция. Это театр. Город строился как театр с мизансценами. Сейчас у нас на каждом углу главный актёр. Все кричат, орут. Вакханалия! Теперь нам нужно создать фон, декорацию, а уж потом вывести актёра.
— А за какой объект никогда бы не взялись, отказались бы?
— Хотел сказать «за тюрьму», но, по-моему, у нас были подходы и к этому.
— А вообще у тюрем есть архитектор?
— Лебедев сейчас занимается этим очень серьёзно. Пытается взаимодействовать со ФСИН. Сегодня вообще начали говорить о том, что у большей части людей, попадающих в эти места, сильно меняется сознание. Поэтому я думаю, что этими объектами нужно серьёзно заниматься. У них произошла большая эволюция: поменялись нормы квадратного метра на человека, например. Поэтому новые объекты уже устроены иначе. Конечно, к перевоспитанию человека это пока никакого отношения не имеет, но всё-таки.
Я бы с удовольствием взялся, например, за театр. Тут нужна компетенция и очень сильная команда. Если мы знаем того, кто способен привлечь консультантов — возьмёмся. В противном случае — нет.


— Если у вас какая-то «фишка», которая переходит из проекта в проект? Какую собственную метку вы оставляете везде?
— Мы пытаемся всегда делать большие консоли, чтобы казалось, будто объект в каком-то месте левитирует. То есть произвести впечатление в этом смысле, поразить человека. Консолями мы балуемся, да.
Есть какая-то вещь, которая заставляет удивиться. Всё-таки инженерная мысль там должна быть, и человек должен удивляться. Ведь основной смысл архитектуры — это провокация человека на действия. Лучше, конечно, всегда на позитивные действия.
Мы проектируем средовую архитектуру, но точно знаем: когда человек её увидел, он должен удивиться, захотеть её распознать, расшифровать этот код, а потом обязательно вернуться.
— С кем мечтаете поработать? Кто ваш идеальный заказчик?
— Это осознанное и сильное государство. Государство, которое не заявления делает о благосостоянии населения, а предпринимает реальные действия в этом направлении. Самый сильный и крупный заказчик — это государство. Ни одной компании, ни одной корпорации, даже транснациональной вроде Google, Apple, не под силу то, на что способно государство.

— А с кем мечтаете, может быть, сотрудничать?
— Было бы круто с Петером Цумтором поработать. Да хотя бы побыть у него в подмастерьях. Мы ездили к нему, видели его издалека. Он уже в преклонном возрасте. Кстати, у него довольно аскетично. Даже простовато, на первый взгляд. Но всё так насыщенно смыслами! Это большой мастер, который живёт среди нас.
С Дэвидом Чипперфильдом хотелось бы поработать. Но надо отдавать себе отчёт, что мы пока готовы работать только как подмастерья. Мы готовы учиться, перенимать опыт. Это не значит, что мы никогда не станем мастерами такого масштаба, но пока только подмастерья. И с великим удовольствием.